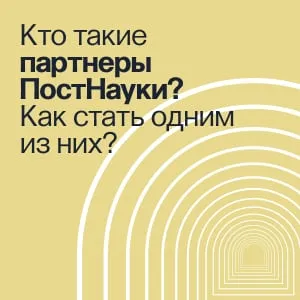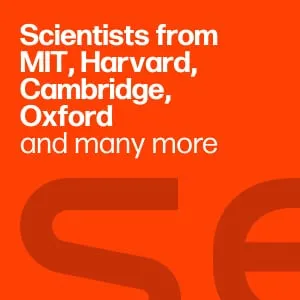Следи за последними обновлениями ПостНауки в Telegram
Следи за последними обновлениями ПостНауки в TelegramЧто читать об истории философской мысли в России
Русская философская мысль самобытна и богата на учения самых разных направлений — от религиозной философии до космизма. Чтобы систематизировать знания о них, философ Алексей Козырев составил подборку из пяти книг об авторских концепциях истории русской философии.
Шпет Г. Очерк развития русской философии. I. Очерк развития русской философии. II. Материалы. Реконструкция Татьяны Щедриной. М.: РОССПЭН, 2008–2009

Первая книга «Очерка» вышла в издательстве «Колос» в 1922 году. Вторая так и не увидела свет: ее рукопись пропала. В этом издании материалы ко второму тому тщательно реконструированы исследовательницей творчества Шпета Татьяной Щедриной с чутким участием Марины Густавовны Шторх, дочери философа.
Ученик Гуссерля и большой любитель немецкого пива, между западным Разумом и восточной Мудростью Шпет делает однозначный выбор в пользу первого — это очевидно западническая концепция истории русской философии. Он будто даже обижен на солунских братьев, не давших нам возможность освоить богатство античности на латыни и древнегреческом, и, как и положено западнику, ругает Византию. Но у книги есть свои преимущества: дотошность исследователя и хорошее знание источников. Шпет разбирает источники философского трактата Александра Радищева и диссертации Николая Чернышевского, пристально анализирует Александра Герцена и Петра Лаврова, не обходит стороной духовно-академическую философскую школу, например учителя Соловьева Памфила Юркевича.
За академизмом и научностью скрывается живой человек, ничуть не менее русский философ, несмотря на его фамилию, идущую от балтийских немцев. Нужно отметить, что Шпет не был выслан и не уехал, а в 1920-е годы, пока ему позволяли, продолжал академическую философскую работу в ГАХНе и других организациях.
Половинкин С. Русская религиозная философия. Избранные статьи. СПб.: РХГА, 2010

Сергей Михайлович Половинкин — настоящий русский философ. Он любил общение и задушевные разговоры о философии за рюмкой чая, философскую баню, которая представляла яркий феномен философской жизни Москвы. Еще недавно можно было услышать его лекции в РГГУ. Сегодня нам остаются его работы, не все они еще изданы.
Главная тема работ Половинкина — отец Павел Флоренский. Долгие годы Сергей Михайлович был сотрудником группы по изданию его собрания сочинений, готовил к печати рукописи, комментировал. По первому образованию математик, он любил Лейбница и считал, что русская философия ему многим обязана. В философии его больше всего влек персонализм и все, что с ним связано. Половинкина волновало то, что делает философию не абстрактным набором идей, но связывает их с носителями, проявляет их в общении, дружбе, любви, ненависти и прочих модусах отношений. Поэтому часть статей сборника посвящена сообществам: московской философско-математической школе, религиозно-философским собраниям и обществам, кружку ищущих христианского просвещения.
Визгин В. Лица и сюжеты русской мысли. М.: Фонд развития фундаментальных лингвистических исследований, 2016

Виктор Павлович Визгин — маститый философ, блестящий знаток и переводчик Габриэля Марселя. Его книга интересна сопоставлениями русской философской традиции с западной мыслью, прежде всего французским экзистенциализмом и персонализмом. В ней дышит живой дух увлеченного человека, прекрасно знающего современную научную философию и имеющего вкус к философии как делу самопостроения личности.
Философской прозе Виктора Визгина свойственна присущая русской мысли страстность и широкая культурная эрудиция. В книге можно прочесть главы о недавно ушедших Алексее Лосеве, Корнее Чуковском, Сергее Дурылине. Кроме того, Визгин включил в свою работу главы об Александре Михайлове, Георгии Гачеве, Сергее Половинкине — современниках, которые ушли в мир иной совсем недавно, — чтобы осознать их масштаб. Безусловно, они причастны к русскому философскому делу.
Чижевский Д. Гегель в России. СПб.: Наука, 2007

Чижевский — ученик Николая Лосского и Василия Зеньковского, выпускник Киевского университета, впоследствии маститый немецкий профессор, философ и историк философии. Его труд по праву считается лучшим исследованием восприятия гегелевской философии в России XIX века. «В тарантасе, в телеге ли еду ночью из Брянска я, Всё о нем, всё о Гегеле, моя дума дворянская», — написал русский поэт Алексей Жемчужников, один из создателей Козьмы Пруткова. Гегель действительно имел огромное, почти религиозное влияние на русскую интеллигенцию, причем как на славянофилов, так и на западников, как на консерваторов, так и на революционеров. В книге можно найти широкий спектр имен, известных и не очень. К примеру, в ней заходит речь о философе-гегельянце Павле Бакунине, брате знаменитого анархиста.
Зеньковский В. История русской философии. Академический проект, 2001

С этой книги протоиерея Зеньковского начинали знакомство с русской философией многие читатели: она переведена и издана на нескольких европейских языках. Зеньковский уехал в эмиграцию уже состоявшимся профессором Киевского университета. Он преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, а священником стал довольно поздно, во время нацистской оккупации, после нескольких месяцев в тюрьме.
Эта книга — его диссертация на степень доктора богословия. Первая часть посвящена досистемному периоду в истории русской философии. Зеньковский начинает не с Древней Руси, а, как и положено киевскому профессору, с полумифической фигуры украинского странника и мистика XVIII века Григория Сковороды. Вторая часть посвящена системам и начинается с Владимира Соловьева, дальнего родственника Сковороды и центральной фигуры в русской философии XIX века. Зеньковскому нужно показать, что русская философия, как и любая другая, подходит под необходимые рубрикаторы: материализм, спиритуализм, имманентизм, персонализм и прочие -измы. Стиль изложения не становится слишком тяжеловесным: спасает богатая эрудиция автора, который словно купается в океане мысли. Как православный священник, он старается найти отблеск учения Христа даже в закоренелых революционерах, радикалах и атеистах.
Над материалом работали