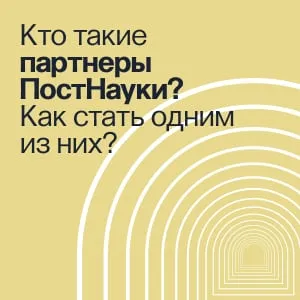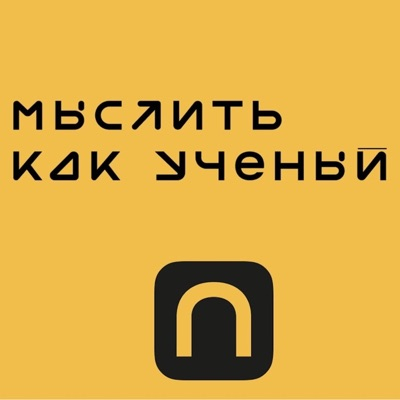Интерактивные курсы от ПостНауки
Интерактивные курсы от ПостНаукиОтрывок из книги Аарона Бенанав «Автоматизация и будущее работы»
Совместно с Издательством Института Гайдара публикуем отрывок из книги Аарона Бенанав «Автоматизация и будущее работы» о структурных экономических тенденциях, которые будут определять нашу рабочую жизнь на долгие годы вперед.
Что произойдет, если у каждого внезапно появится доступ к достаточным для достижения своего полного потенциала здравоохранению, образованию и благосостоянию? Мир полноценно дееспособных личностей будет миром, в котором каждый отдельный человек сможет стремиться к развитию своих интересов и способностей при полной общественной поддержке. Что придется изменить в настоящем, чтобы этот сценарий будущего воплотился в реальность? В мире полной дееспособности увлечения каждого будут в равной степени достойны уважения. Отдельным индивидам не придется всю свою жизнь собирать мусор, мыть посуду, присматривать за детьми, пахать землю или собирать электронные изделия, и точно так же другие люди смогут свободно делать то, что им приятно. Вместо заталкивания некоторых людей «под лежащее в грязи бревно», чтобы другие поднялись выше него, как некогда выразился рабовладелец из Южной Каролины Джеймс Генри Хэммонд, нам потребуется найти другой способ распределения необходимого труда, который послужит основанием для всех наших прочих видов деятельности.
Если теоретики автоматизации возлагают надежды на технологии, многим из первых теоретиков постдефицита, таким как Карл Маркс, Томас Мор, Этьен Кабе и Петр Кропоткин, не требовалось призвать «бога из машины», чтобы разрешить эту загадку. Они провозглашали, что постдефицит возможен и без автоматизации производства. Напротив, утверждали они, нам требуется реорганизовать социальную жизнь в виде двух раздельных, но взаимосвязанных сфер — царства необходимости и царства свободы. Различие между двумя этими сферами идет от древней Греции, хотя для Аристотеля оно представляло собой различие между двумя категориями людей. Рабы были приговорены к царству необходимости, тогда как в царство свободы дозволялось войти только гражданам. Сам Аристотель был негативным теоретиком автоматизации — он обосновывал рабство, ссылаясь на отсутствие самодвижущихся машин: «Если бы каждое орудие по приказанию или по предвидению могло исполнять подобающую ему работу, — утверждал он, — то не потребовалось бы ни мастеру помощников, ни господину рабов». Для Аристотеля отсутствие подобных машин делало рабство неизбежным.
Представлению Мора об идеальном обществе не были чужды рабы, украшенные «золотыми цепями», однако он трансформировал это разделение между классами в разделение, внутренне присущее жизни каждого индивида. Мор черпал вдохновение из «Государства» Платона и у первых христиан, живших в соответствии с принципом omnia sunt communia, или «владеть всем сообща», так что обитатели его воображаемого острова Утопия отказались от денег и частной собственности. «Где только есть частная собственность, — пояснял он, — где все мерят на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел; иначе придется считать правильным то, что все лучшее достается самым дурным, или удачным то, что все разделено очень немногим, да и те получают отнюдь не достаточно, остальные же решительно бедствуют». Мор, живший в эпоху раннего аграрного капитализма, с отвращением относился к огораживаниям, из-за которых фермеры-арендаторы «лишались — или опутанные обманом, или подавленные насилием — даже их собственного достояния», чтобы их место заняли пастбища для овец. Бедняки, у которых не оставалось иного выхода, кроме как заниматься грабежом, чтобы добыть себе хлеб насущный, попадали в тюрьмы или без долгих рассуждений подвергались казням. Вместо этой заведомо абсурдной и жестокой системы, в которой одни были обречены на нищету и смерть, чтобы другие могли быть богаты, Мор отстаивал совместное выполнение необходимых работ общими силами и открытие царства свободы для всеобщего пользования. И главная цель в «Утопии»: «насколько позволяют общественные нужды, избавить всех граждан от телесного рабства и даровать им как можно больше времени для духовной свободы и просвещения». Класс праздных — свободных людей у Аристотеля — будет упразднен, так что каждый сможет получить для себя долю беззаботного времени.
Более трех столетий спустя эти идеи вдохновили изгнанного из Франции республиканца и последователя Руссо Этьена Кабе, который прочел «Утопию» Мора в Британском музее и незамедлительно обратился в последователи социального идеала общества постдефицита. Кабе написал собственный трактат под названием «Путешествия в Икарию» (1840), отстаивая то, что он называл «общностью благ». К призыву Мора к упразднению денег и частной собственности Кабе добавил использование передовой техники для сокращения масштаба работ, диктуемых необходимостью. Именно эти идеи вдохновляли французских коммунистов начала 1840-х годов, к которым обратился Маркс после того, как перерос либеральное республиканство своей юности. Маркс обвинял французских коммунистов-эгалитаристов — последователей Франсуа-Ноэля Бабёфа — в аскетизме, хотя редко напрямую ссылался на Кабе, ставшего христианским мистиком к тому моменту, когда Маркс и Энгельс писали «Манифест Коммунистической партии». Тем не менее Маркс посчитал уместным выдвинуть знаменитый лозунг, который украсит коммунистическое знамя — «От каждого по способностям, каждому по потребностям», — почти напрямую заимствованный из формулировки в «Путешествиях в Икарию» «каждому по потребностям, от каждого по силам». Многие идеи Маркса относительно постдефицита ведут происхождение от его предшественников, разделявших идеи в духе Мора.
Но Маркс пошел дальше Мора и Кабе, утверждая, что мир постдефицита, который был целью для этих мыслителей, достижим только посредством действия масс: он не будет спущен с небес мудрым законодателем, как это происходило в представлениях Платона, Мора, Руссо и Кабе. Именно поэтому идеями Маркса настолько вдохновлялась Парижская коммуна. В короткий период ее существования рабочие изобретали новые способы демократического самоуправления, заменяя периодически избираемых официальных лиц делегатами, которых можно было отозвать в любой момент. Изгнанники разгромленной коммуны, такие как Эли Реклю, затем скитались по Европе, вступая в общение с революционерами вроде Петра Кропоткина, которые продолжали детально описывать возможные способы создания демократически организованных обществ постдефицита. Кропоткин подчеркивал роль в жизни без дефицита добровольных объединений, утверждая, что такие ассоциации будут успешно развиваться в мире, где деньги и частная собственность будут упразднены, а необходимые работы станут выполняться сообща.
Эти идеи в разных обличьях были восприняты Отто Нейратом — фигурой, ставшей исходной мишенью в дискуссии об экономическом расчете при социализме, — и столь разными мыслителями, как Уильям Дюбойс, Джон Дьюи и Карл Поланьи. Все они выступали за мир, где демократические объединения женщин и мужчин замещают рыночные правила кооперативным производством и, используя преимущества капиталистических технологий, снижают объем общего труда по необходимости ради расширения царства индивидуальных свобод. По оценке Дюбойса, в «будущей индустриальной демократии будет достаточно» всего «трех-шести часов» необходимого труда одного человека, что оставит «предостаточно времени для досуга, упражнений, учебы и увлечений». Вместо того чтобы заставлять одних быть «обслугой» ради того, чтобы другие могли творить искусство, утверждал Дюбойс, «все будут художниками, и все будут служить». Именно такое представление о постдефиците стало ассоциироваться для многих с понятиями «социализм» и «коммунизм» еще до того, как позднее они отождествились с централизованным планированием и головокружительной индустриализацией сталинской эпохи.